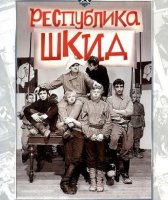
Весёлый нищий
«...Я очень ценю людей, которым судьба с малых лет нащелкала по лбу и по затылку,— писал в 1927 году Максим Горький.— Вот недавно двое таких написали и напечатали удивительно интересную книгу... Авторы — молодые ребята, одному 17, другому, кажется, 19 лет, а книгу они сделали талантливо, гораздо лучше, чем пишут многие из писателей зрелого возраста...» И тогда же, по тому же поводу, в другом месте: «...Это не вундеркинды, а удивительные ребята, сумевшие написать преоригинальную книгу, живую, веселую, жуткую...»
Горький имел в виду «Республику Шкид» и авторов этой книги: младшего, Алексея Еремеева, взявшего себе псевдоним Л. Пантелеев, и старшего, Григория Белых,— бывших беспризорников, которым посчастливилось попасть не куда-нибудь, а в Школу социально-индивидуального воспитания имени Достоевского во главе с Викниксором — В. Н. Сорокой-Росинским, и вскоре сделать ее знаменитой на весь Советский Союз.
Все это, впрочем, широко известно. Как известен и Л. Пантелеев — видный советский детский писатель. Другому же автору, Григорию Георгиевичу Белых, не повезло. За недолгие годы, отпущенные ему жизнью (1906—1938), Белых кроме мелочей опубликовал всего-навсего две повести, из которых вполне удачна, пожалуй, только одна, первая,— «Дом веселых нищих», вышедшая в 1930 году, когда автору было двадцать четыре года. Но ведь литература знает и писателей одной книги! И есть какая-то несправедливость в том, что сегодня все помнят «Белых и Пантелеева», а самостоятельный автор Григорий Белых практически совершенно забыт.
И нам хотелось бы немного рассказать о повести Белых про «веселых нищих». Вспоминая детство, Белых ни на что не претендовал и явно ничего не выдумывал, так что перед нами, что называется, «голая правда» и ничего больше.
(Не тем ли, впрочем, особенно любопытна и сама «Республика Шкид»?) Он по натуре не был профессиональным повествователем, мастером фабулы, которая в книге для детей, естественно, ценится превыше всего. Повесть получилась, по сути, без сюжета — скорее записки, чем собственно повесть, вереница впечатлений, эпизодов, выразительных лиц. Непритязательность, непосредственность — достоинство редкое в профессиональной литературе. И, если угодно, прелесть «Дома веселых нищих» — это прелесть талантливого дилетантства.
Однако у повести Белых есть и другое, должно быть более объективное, достоинство. Постарайтесь припомнить: много ли вы знаете книг, рисующих обстановку детства в России перед первой мировой войной, во время войны, в первые годы революции? В сущности, книг таких почти нет, во всяком случае, хороших мало. Книг нет, а дети-то были, и далеко не все, подобно, например, Павке Корчагину, сразу получили путевку в жизнь, многих закрутил нагрянувший ураган, в котором сгинуло их маленькое личное прошлое. И это из них к началу 20-х годов образовались стаи беспризорных, ставшие дополнительной тяготой и заботой молодой Советской республики... О собственном маленьком прошлом и рассказывал хлебнувший лиха Белых. А повесть его тем и примечательна, что время и место, отраженные взглядом наблюдательного ребенка, пропущенные через фильтр воспоминаний, образуют в ней сердцевину рассказа...
Время — с 1913 по 1920 год, место — Петербург, но перед нами изнанка столицы:окраины,фабрики, заборы, глубокие колодцы дворов, кварталы пролетарско-мещанского люда кварталы, которым и социально, и топографически особенно пристало наименование Питер.
У семилетнего Романа Рожнова, как у прочих детей, есть и мама (про отца не упоминается, словно и не было его), и братья с сеетрой, и дедушка с бабушкой, но странным образом не оказывается семьи. То есть вроде бы семья налицо, но внутренние связи в ней ослабели, словно уже предопределился их близкий окончательный распад. Семья без дома — уже не семья, а у Рожновых не дом-очаг, а просто-напросто место жительства, где живут они на птичьих правах в огромном «доме веселых нищих» — доходном доме господ Слейферов. И отчасти поэтому главная жизнь Романа — вовне. Сначала во дворе, «а двор Роман по помойке определяет. Хороший двор — большая помойка». Потом расширяется среда обитания, захватывая соседние дворы, чердаки, подвалы, окрестные улицы, толкучку. Мальчишки, такие же, как и он, образуют шайки: «Саламандра» против кантонистов, кантонисты против кого-то еще. В пыльном подвале заключают союз, расписываясь кровью, — верность до гроба и страшная тайна.
А нравы вокруг простые и жуткие: в будни — нескончаемый труд, в праздники — гулянье, песни под гармонику, сапоги бутылками, семечки, «страдания», а под конец — драки... Это первые впечатления бытия. Под стать им и первые уроки морали: «Главное — перед жизнью не трусить», — советует мать. «Украсть можно с голоду, а не просто так», — говорит бабушка. Вывод ясен и глупому: жизнь — не шутка...
Но как бы там ни было, жизнь есть жизнь, и Белых показывает немало ее подробностей, теперь занимательных для нас с чисто познавательной точки зрения. Как, например, проходили именины Мальчика из рабочей среды? «...Наступил день именин Романа. Утром мать водила именинника в церковь причащаться. Дома его ждал большой арбуз. Пили кофе. Бабушка угощала пирогом. Все утро Роман ждал, что ему подарят. Мать всегда давала рубль. Лучшие же подарки были от крестной Анастасии Яковлевны, от Кольки (старший брат) и от знакомых. После чая, забрав с собой Иську и Женьку, Роман гулял, покупал мороженое и угощал товарищей. Потом купил себе книжку «Взятие Плевны», на обложке которой солдат в сером кепи и»с багровым лицом бежал на турок...» Вечером явились те, которым, правда, было не до виновника торжества, зато подарки стоили внимания: пистонный пистолет и Лермонтов с картинками...
Книжки вообще — особая статья: Роман и читать-то выучился только ради бесчисленных выпусков приключений знаменитого сыщика Ната Пинкертона. Очумевшие от пинкертоновщины мальчишки мечтали увидеть своего героя воочию, и чтобы не обознаться на улицах Петрограда, они вместо фото таскали с собой обложки книг, а сыщик был намалеван на каждой, и на каждой по-разному. Не правда ли, какая своеобразная живая деталь!
Впрочем, не Пинкертона впервые самостоятельно прочел Роман — заметку в газете об убийстве австрийского эрцгерцога. Это убийство фактически означало начало войны, и в «доме веселых нищих» все хорошо понимали это. Все стадии народного отношения к этой войне так, как они отпечатались в детской памяти, очень внимательно фиксировал Белых: от патриотического одушевления первых дней мобилизации через увлечение богатырскими подвигами казака Крючкова к мрачному молчанию и открытому возмущению.
Так вот и протекали деньки Романа. Судьба не столкнула его всерьез ни с борцами против царизма, ни с особенно ярыми слугами царя. В общем, люди как люди — обычные, средние — окружали героя Белых. Потому так убедительно и звучит в повести (и созревает в душе героя) беспощадный приговор режиму — он вырастает из самой жизни, из беспросветных пластов быта, из мелочей повседневных отношений.
Первое, чему научила Романа эта жизнь, была наука, что все на свете имеет цену и надо платить а все, даже за дружбу, за помощь, за защиту от сильного. Платят какую-нибудь ерунду — фантики, пуговицы с орлами, несколько копеек, но платят всегда и нельзя не заплатить. Читая это, мы-то понимаем, что дело идет о нравственном растлении детей, что зараза меркантилизма, проникшая в мельчайшие поры социального ор ганизма, выносит ему приговор. Однако те нищие дети, жертвы всеобщего закона купли-продажи,— они-то не очень понимали, что к чему, и, будучи глубоко поражены меркантильной заразой, все-таки оставались и просто детьми, часто хорошими, только повзрослевшими преждевременно. Вот один такой, Крякин, сын старьевщиков, маленький ростовщик. Ему почему-то полюбился Роман, и он втолковывал ему свою несокрушимую философию жизни: «Сумей из каждой штуки деньгу делать». Он зазывал Романа в кинематограф — но в долг, он защищал его — но требовал компенсации, он впутал его в несколько операции, довольно предосудительных, и тем не менее он был ему по-настоящему верным другом. Сложная штука жизнь...
Впрочем, к Роману, обступая его, почти не приставала зараза дурного; попробуем приглядеться, почему? Семейное влияние? Практически его не было. Занятия грамотой с околоцерковной дамой-патронессой? Она оскорбила лучшего друга Романа, Иську, выгнанного из учеников из-за его вероисповедания. Городское трехклассное училище? Это попросту бурса и содом. Может быть, чтение? Но мы уже знаем, что именно читал Роман... Остается предположить хорошие задатки, что-то звучащее скромно и ненаучно, но залегающее в человеке глубоко. Роман был создан из добротного человеческого материала, который не только поддается, но также и противится обстоятельствам, не позволяет сбивать себя с толку... За счет этого и мог получиться из нищего во всех отношениях питерского мальчишки по-настоящему хороший человек.
...Мелькнула Февральская революция, сметенная Октябрьской, жизнь сильно посуровела, но сделалась чище и светлей. От семейства Рожновых не осталось почти никого; дед умер, брат Александр ушел с белыми за границу, брат Кольца воевал на далеких красных фронтах. В голодном и холодном Петрограде в 1919 году «дом веселых нищих» сломали и что можно было — сожгли... Мы оставляем четырнадцатилетнего Романа надежной опорой пока еще существующей семьи, но знаем, что за пределами книги такое положение продлится недолго. Вскоре Роман Рожнов, он же Григорий Белых, поедет на крышах вагонов по городам и весям, повидает многое, многому научится, потом будет Школа имени Достоевского, а потом — литература, в которой он сумеет занять хотя и скромное, но свое место.
После этой статьи часто читают:
Просмотрено: 9058 раз