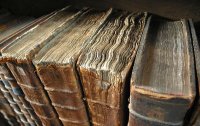 Кто из родителей не читал своим маленьким детям:
Кто из родителей не читал своим маленьким детям: У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада.
- Для кого?
- Для сына моего.
- А много ли прислать?
- Да пудов этак пять
Или шесть:
Больше ему не съесть,
Он у меня еще маленький!
Читатели и родители любого поколения наизусть помнят начало знаменитого «Телефона» Корнея Чуковского. Какие ассоциации возникают после столь хрестоматийных строчек? Ну, конечно, добрая улыбка, обращенная к любимому детскому писателю. Буквально слышишь его неповторимые интонации, нараспев прочитанное последнее слово - «мааленький», в котором звучит приглашение порадоваться шутке, доступной даже читателю, еще не выучившемуся как следует говорить. Этот «неговорящий» читатель приобщался к русской речи, запоминая и повторяя строчки «Телефона». Взрослый прочитывал строку с вопросом, например: «Кто говорит?» А ребенок подхватывал: «Слон!» И дальше - с той же ликующей интонацией: «От верблюда!..», «Шоколада!..» Кажется, автор нарочно сделал эти ответы такими короткими, чтобы малышу и запомнить было легко, и повторить радостно.
Давайте вдумаемся, всмотримся в этот крошечный кусочек текста. Он представляет интерес не только как пример самобытности и мастерства Чуковского. Ведь первая главка «Телефона» по форме не просто забавная поэтическая миниатюра, но и своего рода драматургическое построение. В самом деле, первая фраза (она же первая строка) - это авторская ремарка, вводящая в действие. Вся остальная часть главки - диалог (нет только указании на персонажи, участвующие в действии, как это должно быть в пьесе). Не случайно «Телефон» так удобен для совместного исполнения: один спрашивает - другой отвечает.
Драматургические свойства этой детской поэмы сохранены автором и в дальнейшем. Каждая следующая глава - это, по сути, новая картина с введением нового персонажа. Все это и определяет динамику повествования и неослабевающий интерес к нему маленького слушателя. Конечно, слушателя, а не читателя, ибо знакомство с «Телефоном» происходит в самом раннем возрасте.
Почему я привела в пример эту прекрасную книжку? Да потому, что она помогает уяснить одну важную истину: мышление ребенка не только образно, не только поэтично, но и драматургично. Прислушаемся к тому, как дети пересказывают увиденный фильм или спектакль. Они опускают описательные части, почти не задерживаются на пейзаже или интерьере, а стараются изо всех сил передать действие. Они не только рассказывают, но и показывают наиболее понравившиеся моменты, выступая сразу в нескольких лицах. Эта детская приверженность к действию многократно отмечалась педагогами и детскими писателями. Корней Иванович Чуковский в своей знаменитой книге «От двух до пяти» неоднократно обращает внимание на обилие глаголов в детском лексиконе и почти полное отсутствие прилагательных: детей интересуют те слова, которыми передается действие.
Какое же место занимают драматургические произведения в становлении начинающего читателя?
Не забудем: речь идет не о зрителе, а о читателе. К зрелищам дети приобщаются очень рано, репертуар детских спектаклей и фильмов, включая мультипликационные, многообразен и обширен, но многое ли из этого великолепного многообразия приходит к детям сначала со страниц книги? Наконец, есть ли вообще необходимость в том, чтобы дети читали драматургические произведения? Или достаточно того, что они знакомятся с ними на сцене театра или на экране?
Допускаю, что на этот счет существуют различные точки зрения, но с печальной уверенностью констатирую прежде всего факт: мало что могут прочесть младшие школьники в этом жанре. Среди выдающихся детских писателей - классиков советской литературы для детей драматургов очень и очень немного. Среди авторов многотомной «Библиотеки пионера» нет ни одного драматурга!.. Стоит ли удивляться после этого, что пьеса как жанр решительно не включается в круг детского чтения? Пожалуй, даже трудно себе представить, что в библиотеке ученику пятого или шестого класса рекомендуют почитать что-либо из драматургии.
А между тем уже в седьмом классе ребята на уроках литературы встречаются с «Ревизором» Н. В. Гоголя - комедией, которая до сих пор остается не только «образцовым произведением жанра», по словам Белинского, но и одним из труднейших для постановки шедевров мировой драматургии. «Ревизор» - сначала литература, а потом уж театр. Так же, как, впрочем, и вся остальная мировая драматургическая классика.
Учебник литературы для седьмого класса говорит с учащимися о множестве вопросов, связанных с комедией Гоголя. И все же, закончив этот раздел программы, ребята вряд ли могут считать себя подготовленными к восприятию драматургического текста. А в восьмом классе в их программе будут «Недоросль» Фонвизина и «Горе от ума» Грибоедова; в девятом - «Гроза» А. Островского и «Вишневый сад» А. Чехова; а в самом начале десятого класса - драматургия М. Горького, с его сложнейшей философской драмой «На дне». Короче говоря, русская драматургия достаточно солидно представлена в школьном курсе литературы. И думается, это справедливо.
Значит, особое значение приобретает подготовка детей к вдумчивому, осмысленному восприятию драматургии. Это не менее важно для них, чем научиться правильно понимать спектакль. Как известно, одна и та же пьеса может стать основой многих спектаклей, в которых существенную роль играет индивидуальность режиссера. К сожалению, зрители школьного возраста, отправляясь в театр, зачастую не обнаруживают желания познакомиться с пьесой, по которой поставлен спектакль; в подавляющем большинстве дети не подготовлены к такого рода чтению.
А ведь мы помним, в дошкольном детстве их очень интересовал «Телефон» и подобные «драматургические» произведения. Когда же ослабевает интерес ребенка к прекрасному искусству драматургии? Может быть, когда ребенок сам становится читателем? Пока он участвует в коллективном чтении, подыгрывая взрослому при исполнении диалогического стихотворения, до тех пор его природная склонность к драматургии жива и сильна. Значит, все дело в том, чтобы сохранить и развить эти склонности ребенка. Многое зависит от того, насколько активно детей втягивают в чтение собственно драматургических произведений. И школьная библиотека и семья могут помочь детям научиться читать пьесы.
Между прочим, есть замечательная рекомендация, как читать такие произведения и принадлежит она С Я Маршаку, и познакомиться с ней полезно и наверняка интересно родителям. В письме замечательному актеру
Д. Н. Орлову Маршак размышляет о репертуаре, который был бы уместен на детском утреннике. Среди других произведений Маршак называет свою пьесу «Петрушка-иностранец» и очень подробно рассказывает, как он сам читал ее ребятам: «Петрушку-иностранца» надо читать за всех действующих лиц. Там много персонажей и даже в моей читке это вызывает хохот, особенно с середины. Я только вначале не просто называю персонаж, - скажем, «Отец», «Мороженщик», «Петрушка»,- а поясняю перед первыми репликами: «Петрушка говорит», «Отец говорит». А потом дети привыкают, и можно только называть персонажи или даже не называть».
По сути дела, Маршак в этом письме, датированном 1928 годом, излагает конкретную программу для взрослых, по-деловому советует, как интереснее, проще и ненавязчивее преподносить ребятам драматургический текст, чтобы он стал не просто доступным, но и увлекательным для детей младшего возраста.
Начинающему читателю наверняка понравится чтение по ролям, если заранее распределить их, договориться, кто за кого читает. Бывает, взрослый дочитывает книгу до какого-то определенного места, а потом предлагает подключиться маленькому читателю или читателям. И, как правило, чем интереснее место, на котором оборвалось чтение, тем охотнее, даже азартнее, включается малыш. При чтении пьесы его участие еще активнее, так как ему придется следить по тексту за своим взрослым партнером, чтобы не пропустить собственную реплику и конечно, для такого чтения самыми подходящими будут несложные и не очень длинные детские пьесы в стихах, прежде всего знаменитые маршаковские «Теремок», «Кошкин дом», «Сказка про козла».
Возможно, кто-то возразит: если возможности театра велики, если благодаря телевидению лучшие театральные спектакли стали доступны зрителям самых отдаленных уголков нашей страны - так ли важно, чтобы дети знакомились с первоисточниками? Ведь текст драматургических произведений доносится до зрителя в неприкосновенности.
Чаще всего так и бывает. Однако не исключено вмешательство в текст, перестановки и сокращения, смещение акцентов, а кроме того, любое драматургическое произведение окрашивается на сцене особыми эмоциональными красками, обусловленными творческой индивидуальностью актера, режиссера, художника - то есть становится другим искусством, близким, родственным литературе, связанным с ней кровной связью, но другим. При постановке спектакля можно исказить авторскую мысль, даже сохранив текст пьесы.
Настоящий театральный зритель испытывает непременное желание прочитать пьесу до того, как посмотрит спектакль. (Конечно, в тех случаях, когда ее можно прочесть, когда она опубликована.) Правда, психология юного зрителя такова, что знание сюжета может существенно понизить его интерес к спектаклю. Может быть, ребятам подойдет другая последовательность: сначала посмотрим спектакль, а потом прочитаем пьесу. В этом случае есть свои интересные творческие моменты: читая, ребенок будет восстанавливать в памяти недавнее зрелище, соотносить его с текстом. Очень плодотворным может оказаться разговор и о пьесе, и о спектакле.
А кроме того, надо учитывать, что далеко не каждая пьеса из того богатства, каким является мировая драматургия всех эпох, поставлена или может быть сегодня поставлена на сцене. Но это не значит, что владение этим богатством - привилегия театральных деятелей или филологов. Научить детей читать пьесы, воспитать вкус к такому чтению - задача сложная, но благодарная. Действующие лица и исполнители - так живет пьеса на сцене. Просто действующие лица - это суть драматургии как великой ветви литературы. Познакомившись с ними при чтении, юный читатель сможет за любым исполнителем увидеть то лицо персонажа, которого создал художник посредством слова.
Тысячи любителей поэзии регулярно посещают поэтические вечера, слушают стихи своих любимых поэтов в исполнении разных актеров или в авторском исполнении и то же самое относится и к прозе, которая читается с эстрады. Но трудно представить любителя литературы, который удовлетворился бы этим и не читал сам и так бывает и с драматургией. Чем раньше придет к человеку как к читателю интерес к драматургии, тем шире будет его горизонт, выше его зрительская и читательская культура, он сможет глубже понять не только драматурга, но и такое сложное и тонкое явление, как театр.
Л. Малышева
После этой статьи часто читают:
Просмотрено: 5615 раз