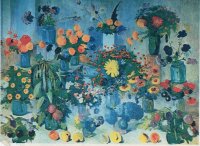 В 1965 году, к восьмидесятипятилетию Мартироса Сергеевича Сарьяна, снимался документальный фильм о нем, и писатель Илья Эренбург, автор дикторского текста, рассказывал о натюрморте, который мы сегодня репродуцируем: «Сарьян писал цветы всю жизнь. Шла страшная война: советский народ сражался против фашистов. Сарьян долго писал холст «Участникам Отечественной войны». Это — много, очень много букетиков в склянках. Много судеб, много жертв. Отдельные букетики и поле ярких цветов: радость, победа...»
В 1965 году, к восьмидесятипятилетию Мартироса Сергеевича Сарьяна, снимался документальный фильм о нем, и писатель Илья Эренбург, автор дикторского текста, рассказывал о натюрморте, который мы сегодня репродуцируем: «Сарьян писал цветы всю жизнь. Шла страшная война: советский народ сражался против фашистов. Сарьян долго писал холст «Участникам Отечественной войны». Это — много, очень много букетиков в склянках. Много судеб, много жертв. Отдельные букетики и поле ярких цветов: радость, победа...»Великий труженик, Сарьян и в годы войны работал как всегда — упорно, самозабвенно, не зная отдыха и не признавая усталости. Он понимал, естественно, что в годину народного бедствия работать не щадя себя, с напряжением и перенапряжением всех сил, — это единственный способ жить: всякий другой нравственно невозможен. Понимал он и то, что, несмотря на войну, искусство вообще, и в частности живопись, не потеряли своего значения; настоящее искусство — это ведь сама жизнь, и художник утверждает ее, то есть в конечном счете делает то же, что и солдат на фронте, — оба они отстаивают право человека на все богатство и радость жизни против человеконенавистнических сил зла и уничтожения, воплотившихся в фашизме... В те грозные дни Сарьян, как и каждый в нашей стране, стремился к одному: внести свою лепту в общее дело разгрома фашизма, и вместе с тем, невольно соизмеряя свое личное прошлое с этой гигантской битвой добра со злом, он заново, с новой зоркостью окидывал внутренним зрением пройденный путь и многое в собственном прошлом видел и понимал по-новому...
Война застала Сарьяна пожилым человеком, сделавшим, да и пережившим уже немало, так что накопилось, о чем думать и вспоминать. Сын Сарьяна, Зарик, ушел на фронт, и вот в сорок третьем году, когда произошел под Сталинградом решающий перелом в ходе войны, но впереди было еще немало испытаний, вдруг перестали приходить вести от сына. Тогда-то, заглушая тревогу в душе, Сарьян и взялся за одну из своих наиболее смелых и глубоких по замыслу картин.
Она называется «Автопортрет. Три возраста». В одной плоскости холста, на фоне хрестоматийного армянского пейзажа, который Сарьян любил и писал как никто,— пологие ржавого цвета холмы, редкая зелень, он трижды написал себя.
Справа — молодой человек с курчавой шевелюрой, в костюме с галстуком, держащий палитру в левой руке. Это молодой Сарьян периода «Голубой розы» — входящий в моду художник предреволюционного Петербурга. Многих тогда изумили — словно обожгли невиданной доселе яркостью и небывалой лапидарностью форм — сарьяновские восточные пейзажи. Иные петербургские снобы, судившие о живописи холодно и высокомерно, чуть снисходительно хвалили его, признавая «талантливым, но неумелым мечтателем», и хотя, действительно, мечта, а лучше даже сказать — грёза, навеянная легендой и атмосферой Востока, безраздельно царила в большей части его тогдашних картин, о неумелости, разумеется, не могло быть и речи: великолепные живописные феерии Сарьяна имели совершенно иной источник — мудрость.
Не будем гадать, откуда она была у него — сына нищего хуторянина из Нахичевани-на-Дону, ставшего любимым учеником Коровина и Серова, а вскоре начавшего писать абсолютно иначе, чем писали они, но мудрость была у него и тогда, как если бы он родился уже мудрым. Он говорил: «Моя цель — достигнуть первооснов реализма». Это значило: не внешнего правдоподобия, которре принимают за реализм, а той внутренней правды вещей, зачастую скрытой от взгляда, овладев которой, художник получает возможность обогатить ею и нас, зрителей. Позднее Сарьян имел полное право сказать: «Еще в молодости я понял, что истинный художник должен быть передовым членом общества, по-настоящему нравственным человеком.., должен стать душой и сердцем народным...»
Он действительно понял это, оттого и наступила пора, когда словно переломилась так ярко расцветшая и плодоносившая ветвь живописи Сарьяна. Одной мудрости оказалось недостаточно, требовалась еще и зрелость. Уехав из столицы, революцию и гражданскую войну Сарьян пережил в Ростове, затем переселился (уже навсегда) в Ереван, и примерно на десятилетие, хотя, конечно, он и в то время отнюдь не оставлял живопись, центр его творческой работы переместился в область духовного самовоспитания, главной составной частью которого стало осознание закономерности и смысла революционных потрясений, преобразивших на шу страну. Об этом в 1932 году хорошо написал искусствовед Н. Н. Пунин: «От «неумения» молодого Сарьяна до глубокого пространственного синтеза более позднего времени — это... путь, пройденный Сарьяном-человеком, это его жизнь, вначале романтическая... потом настоявшаяся, мужественная, осложненная опытом последовательной работы над собой, над своим «восприятием». Причем самое главное здесь то, что созревание гражданского и художнического «восприятия» Сарьяна проходило одновременно и слитно и, может быть, человек на этом пути даже несколько опережал художника.
И вот на полотне «Три возраста» слева Сарьян повторил, почти скопировал автопортрет 1933 года, то есть как раз того времени, когда он стал вдохновенным певцом и летописцем социалистического обновления своей любимой родины. Он пришел к этому глубоко закономерным, пережитым внутри себя путем, и поэтому в чуть откинутой назад голове, в глазах с легким прищуром, смотрящих как будто против солнца, читается пафос человека, воочию наблюдающего, как его мечта день ото дня становится явью...
А в центре картины постаревший седобородый Сарьян сурово и пристально смотрит прямо на зрителя. Варпет (то есть Мастер — так называли его) держит на коленях чистый картон, по белоснежному полю которого сейчас польется из-под карандаша чистая мелодия какого-то рисунка... С высоты сорок третьего года, как с башни, смотрит Сарьян на зрителя, и мы понимаем — он видит глубину времени, из которой навстречу ему возвращается с победой его сын, возвращаются многие тысячи других солдат-победителей всех национальностей, населяющих нашу великую страну, он видит саму Победу — она уже недалека.
Она пришла, и 9 мая с утра в дом Сарьяна потянулась вереница людей, знакомых, полузнакомых, даже незнакомых совсем, и все они приходили с цветами. Мы не знаем, конечно, эти ли самые цветы стояли перед Сарьяном, когда он писал натюрморт, который вы видите на нашей репродукции. Мы знаем другое: и те и эти цветы воплощают одно глубокое и цельное чувство — это приношение памяти павших, это приветствие оставшимся в живых, это символ победительницы-жизни.
Потом Сарьян жил и работал еще около тридцати лет и главным образом писал «пейзажи-сказания», по удачному определению А. Каменского, и впрямь какой-то эпический дух веет в пространстве его полотен, осеняет долины, горы, людей, обрабатывающих мирную землю. «Человек, — говорил Сарьян, — это сама природа, природа — человек, человек воплощен в природе, природа — в человеке: природа вечна, смерти нет!»
И сегодня, когда мы любуемся картинами Сарьяна, трудно не вспомнить эти удивительные слова.
После этой статьи часто читают:
Просмотрено: 11826 раз