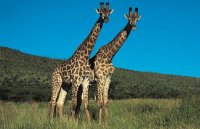 В Национальном парке Серенгети на севере Танзании, на сравнительно небольшой площади в 13 тысяч километров, живут четыреста тысяч антилоп, двести тысяч зебр и примерно полмиллиона газелей. По сравнению с этими цифрами поголовье жирафов в Серенгети выглядит скромно: всего каких-то одиннадцать тысяч. Но когда научный центр имени Михаэля Гржимека в Банаги приступил к детальному изучению этой территории, он не мог пройти мимо «самого длинношеего». Ведь Серенгети расположен в саванне, где древесная растительность представлена колючими зонтичными акациями, которые служат основной пищей жирафов. С помощью длинного, гибкого и совершенно нечувствительного к уколам колючек языка жираф обрывает самые нежные молодые листья. Если же учесть, что его дневной рацион равен примерно ста килограммам, то становится понятным опасение за судьбу акациевых лесов в саванне.
В Национальном парке Серенгети на севере Танзании, на сравнительно небольшой площади в 13 тысяч километров, живут четыреста тысяч антилоп, двести тысяч зебр и примерно полмиллиона газелей. По сравнению с этими цифрами поголовье жирафов в Серенгети выглядит скромно: всего каких-то одиннадцать тысяч. Но когда научный центр имени Михаэля Гржимека в Банаги приступил к детальному изучению этой территории, он не мог пройти мимо «самого длинношеего». Ведь Серенгети расположен в саванне, где древесная растительность представлена колючими зонтичными акациями, которые служат основной пищей жирафов. С помощью длинного, гибкого и совершенно нечувствительного к уколам колючек языка жираф обрывает самые нежные молодые листья. Если же учесть, что его дневной рацион равен примерно ста килограммам, то становится понятным опасение за судьбу акациевых лесов в саванне.Проверить обоснованность тревоги взялся английский зоолог Робин Пеллеу. А для этого предстояло досконально изучить образ жизни великанов саванны.
«На первый взгляд эта задача кажется простой. В редколесной травянистой саванне гиганты жирафы должны быть видны на большом расстоянии. Остаётся выбрать определённое стадо, понаблюдать, какое расстояние оно покрывает во время кормёжки, а потом сесть за стол и произвести соответствующие расчёты, - пишет Пеллеу. - Но при наблюдениях за животными простых задач не бывает. Взять хотя бы обыкновенную саванну. Приветливая и гостеприимная равнина, поросшая густой травой, встречает исследователя весьма враждебно: в ней не ступишь и шага, не зацепившись за колючий кустарник или не оцарапавшись о твёрдый как железо шип акациевой поросли. Единственный выход - это «лендровер».
Но попробуйте поколесить на нём без дорог, по густой траве со скоростью 50 - 60 километров, рискуя угодить в какую-нибудь выбоину, отчего сразу ломается ось, и вы поймёте, что значит наблюдать за животными не в вольере зоопарка, а в естественных для всех условиях. Причём жираф не думает о вашей безопасности и при всей своей кажущейся неуклюжести может развивать скорость до 50 километров. На экране телевизора этот своеобразный плавный галоп, когда животное откидывает далеко назад голову и шею, а затем глубоко кланяется при каждом прыжке, производит комическое впечатление. Трудно поверить, что это не замедленная съёмка, а бешеная гонка по пересечённой местности, когда «лендровер» в любой момент может перевернуться.
Без надёжного метода спасения каждого жирафа приступать к исследованию их образа жизни бессмысленно. К счастью, на помощь мне пришла сама природа: ни один жираф не похож на другого, у каждого на шкуре свой неповторимый узор. Как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев у людей, так и пятна жирафов надёжно отличают великанов друг от друга. Эти пятна могут быть светлее или темнее - в зависимости от возраста, но они никогда не меняют своей формы и расположения. У меня набралась целая коллекция фотографий жирафов - более 800. Не менее трети из них я дал имена и могу узнать старых знакомых с первого взгляда».
Однако чтобы выяснить, способно ли столь хрупкое экологическое образование, как Серенгети, безболезненно прокормить живущих в Национальном парке жирафов, «личного знакомства» Робина Пеллеу с объектами наблюдения оказалось недостаточно. Было известно только то, что кормятся они утром и во второй половине дня, а в наиболее жаркие часы, стоя, дремлют под сенью акаций. Ночью же жирафы спят, поджав передние ноги и положив голову на круп, словно на подушку.
Зоологу предстояло точно установить, являются ли жирафы кочующими животными, каковы маршруты их миграции и держится ли стадо какого-то одного, постоянного участка обитания. А потому требовалось обслуживать контрольных жирафов в любое время дня и ночи. Выполнить это можно, лишь надев им на шею «воротники» с миниатюрными передатчиками.
«Мне никогда не забыть, как я «заарканил» моего первого жирафа, - рассказывает Пеллеу. - Прошло больше 15 минут после выстрела усыпляющей пулей-шприцем, а жираф всё ещё держался на ногах. Меня даже пот прошиб: неужели в ампуле было недостаточно снотворного? Если жираф скроется в зарослях акаций, прежде чем мы его поймаем, он наверняка станет добычей львов или гиен.
Наконец жираф остановился, закачался, а изо рта у него потекла густая слюна. Воспользовавшись подходящим моментом, мы набросили лассо. Но только оно обвило шею великана, как тот опять отбежал в сторону, потащив за собой через колючий кустарник и нас - пятерых дюжих мужчин, вцепившихся в жёсткое лассо и пытающихся упереться пятками в землю. Когда же заарканенный жираф наконец замер, моим помощникам удалось приёмом каратэ - подсечкой под задние ноги - усадить его на землю.
В считанные секунды я закрепил на его шее пластиковый ошейник с радиомаяком. Затем сделал ему укол нейтрализатора снотворного.
Казалось, прошла целая вечность, прежде чем жираф сделал усилие и поднялся. Постоял, пока не прошла бившая его тело лёгкая дрожь. Мне не забыть выражения мягкой печали в его тёмных глазах, опушённых длинными ресницами. Умом я знал, что такие ресницы нужны ему, чтобы защищать зрачки от соприкосновения с листвой. Но грустная меланхолия, с которой он неспешно поворачивал голову, словно прощаясь с родной саванной, невольно заставляла сожалеть о эксперименте. Каково же было наше облегчение, когда жираф бросил на нас долгий, пристальный и слегка презрительный взгляд, а затем величественно удалился в саванну».
Первого «радиофицированного» жирафа Пеллеу назвал Эрастусом. Затем к нему прибавились ещё двое: Биг Джордж и Мэри Лу. Сигналы их передатчиков надёжно прослушивались из машины на расстоянии трёх километров, а с самолета даже с шести. Уже первые наблюдения с помощью пеленгации позволили Пеллеу сделать интересное открытие: оказалось, что вопреки общепринятому мнению жирафы вовсе не кочующие животные. Как и большинство млекопитающих, они придерживаются довольно точно обозначенных участков обитания, причём весьма значительных размеров. У Мэри Лу и Эрастуса они составляли соответственно 120 и 160 квадратных километров, а Биг Джордж облюбовал себе ещё больший район.
Со временем Пеллеу удалось установить, что жирафы использовали свои владения далеко не равномерно. В основном они паслись в тридцатикилометровой зоне в центре участков, где чувствовали себя действительно «как дома», а ближе к границам начинали нервничать и проявлять беспокойство.
«Когда я днём навещал моих контрольных жирафов, то лишь в редких случаях обнаруживал их в одиночестве. Чаще всего они находились неподалёку от центра своей зоны в окружении других - пасущихся или стоящих настороже жирафов. Нередко собиралось целое стадо голов в пятьдесят, которое за сутки могло откочевать не больше, чем на четыре километра, - пишет Пеллеу. - Учитывая число жирафов в Серенгети и площадь Национального парка, можно сделать вывод, что районы обитания и центровые зоны у отдельных животных частично накладываются друг на друга. Этим, видимо, и объясняется то, что жирафы-самцы вполне терпимо относятся к присутствию рядом постороннего сородича во время кормёжки.
Второй момент, интересовавший меня, можно сформулировать так: насколько стабилен состав жирафьего стада? Остаются ли животные, скажем, утром пасшиеся вместе, ещё длительное время в одном стаде или же оно вскоре распадается?
И вот тут-то пригодился мой фотоархив. На основании полуторагодичных наблюдении я могу с уверенностью утверждать, что никакого постоянства в составе стад жирафов, в отличие, например, от львиного прайда, нет: отдельные животные прибывают и убывают практически каждый день. Только неопытному наблюдателю может показаться, что пасущиеся вместе сегодня и в последующие дни жирафы одни и те же.
Постепенно я понял, каковы «общественные» связи этих великанов. Чаще всего рядом держатся наиболее общительные особи. В других случаях они объединяются по соображениям безопасности: на водопое жираф, чтобы дотянуться до воды, должен широко расставить передние ноги. В такой позе он не может мгновенно вскочить, чтобы убежать или защититься от нападения врага. Львы, которым хорошо известна эта слабость жирафов, часто устраивают засады именно возле постоянных мест водопоя. Поэтому длинношеий принимают свои контрмеры: пока один из них пьёт, остальные «стоят на часах», охраняя его».
И всё же, несмотря на несомненную потребность в контактах, считает Пеллеу, у жирафов нет прочных связей со своими сородичами. Например, когда пасущееся стадо выходит за границы участка одного из его членов, тот без малейших колебаний остаётся в своих владениях. Правда, встречаются жирафы, которые отваживаются совершать в одиночку небольшие вылазки «за границу», но их нервозность в подобных случаях свидетельствует, что им явно не по себе. Обычно такой путешественник спешит присоединиться к первому же встреченному стаду, которое направляется в сторону его участка.
«Что касается главной цели моих исследований, - пишет Пеллеу, - то предварительные выводы не слишком утешительны. Пока пищи для жирафьего поголовья хватает. Однако данные аэрофотосъёмки показывают, что при его нынешней численности за год погибает до семи процентов всех зонтичных акаций в Серенгети. Если не принять срочных мер, то через 12 - 15 лет могут погибнуть все большие деревья, листьями которых в силу своего роста кормятся великаны саванны. А это, в свою очередь, обернётся катастрофой для самих жирафов. Есть только один выход: человек должен помочь природе».
Сергей Дёмкин
После этой статьи часто читают:
Просмотрено: 11839 раз