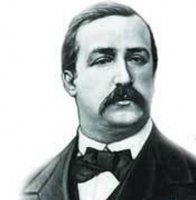 Образ русской древности.
Образ русской древности. «Можно, не побывав в России, получить представление о стране и народе, слушая эту музыку», — сказал о Второй симфонии Бородина немецкий дирижер Ф. Вейнгартнер. Такие высокие слова как нельзя более точно и справедливо определяют существо этой симфонии — произведения, единственного в своем роде, в своей национальной самобытности и мощи. Недаром она именуется «Богатырской» — с таким размахом, широтой, с такой необычайной для инструментальной музыки картинностью воссоздан в ней образ русской древности, русского национального характера.
У Второй симфонии нет вступления. Сразу, без подготовки раздается громогласный унисон смычковой группы, поддерживаемой медью. Эта тема подобна богатырскому боевому кличу. Что-то есть в ней бесконечно древнее, былинное — в массивных, тяжело раскачивающихся унисонных ходах, в долгих остановках на основном, гулком призывном тоне.
Как известно, Бородин не раз рассказывал друзьям (В. В. Стасову — в том числе) о замысле Богатырской, и потому мы знаем, что в первой части её он хотел изобразить собрание русских богатырей.
...То не ясны соколы солеталися,
А славны добры молодцы собиралися,
Ко тому ли Володимиру соезжалися...
Но если предположить, что эта программа осталась бы неизвестной, все равно ощущение громадной, «великанской» силы музыки возникло бы неизбежно. Как хорошо об этом сказал Б. В. Асафьев: «Мощь, величие, энергия предельно сжатой спирали — вот начало, заставка симфонии. В этой всепокоряющей унисонной фразе слышится былина о Святогоре: никому не сдвинуть русского народа с родной земли. Слышится, как чей-то на дальние просторы прокатившийся суровый, грозный глас».
А потом эта предельно сжатая «спираль» начинает распрямляться, развертываться. Движение ускоряется, к струнным и медным инструментам присоединяется хор деревянных духовых. Это уже не унисоны, а аккорды — яркие, на октаву выше, многоголосные, словно на призыв богатыря откликнулась его дружина. И оба эти элемента вместе — призыв и отклик, массивность и движение — составляют главную партию первой части, написанной уже в знакомой нам форме классического сонатного аллегро. И вся драматургия этого, безусловно, важнейшего раздела «Богатырской» будет строиться на сопоставлении и симфоническом преобразовании обоих элементов.
Вторая (побочная) тема является сначала в теплой звучности виолончелей, затем — у флейт с кларнетами. Вот прекрасный образец бородинской лирики! Но чувство здесь — вы это ощутите ясно — не носит личного характера, оно светло, покойно, как это и должно быть в выражении народного душевного строя.
Долгим затухающим аккордом заканчивает Бородин экспозицию Аллегро (кажется, будто все замирает перед боем), и вот, мало-помалу перед нами разворачивается картина сечи. Смутное, таинственное шевеление в басах, которым открывается разработка, постепенно разрастается, становится отчетливым. Литавры отбивают одну и ту же, ни на секунду не прерывающую бега ритмическую фигуру. На фоне этого гулкого топота сначала на piano, как бы издалека, в обрывках (Стасов говорит здесь об «ударах направо и налево, сплеча, богатырского меча»), потом все полней, все громче звучит основная тема «суровый, грозный глас» — поочередно в разных голосах и группах инструментов, потом, в завершение разработки, в оркестровом «тутти» (когда играет весь оркестр).
Начинается заключительный отдел (реприза). На последних тактах, после громовых ударов меди (кажется, что бьет какой-то гигантский колокол) вся масса инструментов как бы возглашает: никому не сдвинуть русского народа с родной земли.
...В жизни Александра Порфирьевича Бородина был особенный, знаменательный для него год — 1862-й. Весной этого года он был избран адъюнкт-профессором по кафедре химии Медико-хирургической академии в Петербурге, а осенью его друг и коллега доктор Боткин, бывший, кстати говоря, не только крупнейшим русским медиком, но и хорошим виолончелистом, познакомил Бородина с человеком, сыгравшим в его жизни совершенно исключительную роль. Это был Милий Алексеевич Балакирев — композитор, пианист, дирижер и, что составляло, наверно, важнейшую черту его в высшей степени незаурядной личности, прирожденный лидер. Совсем еще молодой (тремя годами младше Бородина), Балакирев к тому времени сплотил вокруг себя небольшой кружок талантливейших музыкантов. «Могучая кучка» (название, появившееся в том же самом, 1862 году), членом которой становится Бородин, уже заявила о себе.
Читатель, безусловно, знает, какую роль сыграли в истории России 60-е годы прошлого столетия. Напомним лишь, что «могучие кучки» возникли и окрепли в ту пору не только в музыке, но и в изобразительном искусстве, и в науке. «Если спросят: какая была самая выдающаяся черта этого движения? — писал К. А. Тимирязев,— можно не задумываясь ответить одним словом: энтузиазм. Тот увлекающий человека и возвышающий его энтузиазм, то убеждение, что делается дело, способное поглотить все умственные увлечения и нравственные силы.,. Не наука несла человеку различные блага земные, а человек себя безраздельно приносил на служение науке, не жалея ничего, вплоть до последней рубашки». И Бородин 60-х годов — это человек в самом расцвете физических и духовных сил, удивительной энергии, душевной щедрости и бескорыстия, юмора и теплоты («Я, слава аллаху, здоров, толст, красен и весел... и работаю теперь шибко...»).
Познакомьтесь, дорогой читатель, с письмами Бородина (они неоднократно издавались) — это не только великолепный образец эпистолярной литературы, но и необыкновенный в своем обаянии автопортрет — ученого и художника, человека и гражданина.
В наши дни, когда проблема гармонического развития личности ребенка волнует едва ли не каждую семью, когда повсюду слышишь о каких-то посторонних по отношению к основной профессии увлечениях, «хобби»... имя Бородина употребляется при этом часто и, думается, всуе. Потому что у него и речи не было о «постороннем». Он был человеком не только громадной одаренности, но еще и цельности, и все, что он делал, было для него чрезвычайно важно и серьезно. И ни от чего он не хотел отказываться.
В свое время ученые и музыканты немало спорили о нём, и обе «враждующие стороны» сетовали на то, что он «разбрасывался», что потому-де много не успел написать, доделать... Да, времени Бородину действительно всю жизнь не хватало — да и всей-то жизни было 54 года! Но разве количеством определяется значение сделанного? Более того, ощущение полноты жизни, плодотворности усилий, «отрадное чувство сознания, что ты «делаешь дело» (курсив А. П. Бородина), сказалось несомненно — не могло не сказаться! — в его творчестве, в душевном его здоровье, оптимизме, ясности, разумности. Что же касается числа его произведений, так останься после Бородина только «Князь Игорь» и Богатырская симфония — с ними он в русской музыке все равно был бы одним из первых.
Вернемся к Богатырской.
«Сам Бородин рассказывал мне не раз, — пишет В. В. Стасов, — что в Адажио (медленной части) он желал нарисовать фигуру «баяна», в 1-й части — собрание русских богатырей, в финале — сцену богатырского пира, при звуке гусель, при ликовании великой народной толпы».
Как мы видим, Стасов ничего не пишет здесь о замысле второй части симфонии (сам Бородин озаглавил ее как «Скерцо», дословно — шутка). Но яркость, картинность музыки не оставляет сомнений в ее содержании. Это сцена богатырских игр, забав, шуток, о которых немало сказано в былинах («А шутил он шуточки немалые...»). Ни следа не остается здесь от массивности, от напряжения боя первой части. Легко, стремительно, полетно мчатся кони по степи — «земле незнаемой», «полю дикому».
Так — в крайних частях Скерцо (в нем три части), а в середине — мерное, мягкое покачивание мелодии, тихий перезвон треугольников и арф. Что это? Видение кочевых шатров или, может быть, просто минута созерцания, «нирваны» (восточный характер музыки здесь несомненен) перед новой игрой, новой скачкой?
Третья часть открывается звонкими аккордами «золоченых гуселек яровчатых» (арф), под аккомпанемент которых солирующая валторна с её чуть-чуть дрожащим тембром (как у старика-певца) ведет сказание о давних-давних временах. Прислушайтесь к неожиданным, на середине фразы, остановкам мелодии, словно для того, чтобы набрать дыхание, обратите внимание на ее ритмическую свободу, несимметричность — всё это воспринимается как живая речь, важная и мудрая... Потом этот эпический рассказ наполнится тревогой, драматическими отголосками минувших битв («ветры веют стрелами, сабли гремят о шлемы, трещат копья харалужные...»). И снова, но теперь уже не у одной валторны, а в полном ярком звучании всего оркестра повторяется первоначальная мелодия.
И наконец, «сцена богатырского пира, при звуке гусель, при ликовании великой народной толпы» — финал. В самом начале его — веселая, разноголосая сумятица, в которой явственно слышны то краткие, отрывистые возгласы гудков (у скрипок) , то бряцанье домр, затейливые наигрыши скоморошьих дудок и свирелей... Мощным сплошным потоком пляшущей толпы врывается в эту разноголосицу размашистая, удалая тема главной партии. Так же как первая часть симфонии, финал написан в форме сонатного Аллегро.
И ещё одна тема, совершенно новая и очень яркая, появляется в самом разгаре «почестна пира» — в кульминации разработки: светлая, радостная, торжественная, она пройдет на гребне многозвучных аккордовых пластов (сам композитор говорил об этом эпизоде, что он получился «сильным и могучим»). Этой темой «ликования великой народной толпы» Бородин заканчивает свою Богатырскую симфонию.
И. Солодовиикова
После этой статьи часто читают:
Просмотрено: 19862 раз